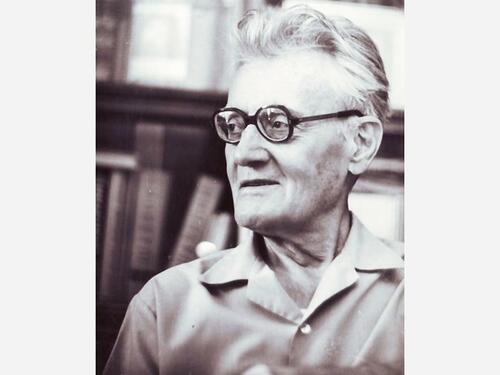(продолжение)
Начало
Ветер революции
Как быстро летит время. Молодой человек только-только начал ощущать открывающиеся смыслы знания, только стал обретать опыт, а уже пора нести ответственность за семью, за избранные принципы. Только-только проявились новые профессиональные возможности, а мир вдруг стал меняться и ожесточаться. Приходило новое время, олицетворявшее собой ХХ век. Россия медленно, но уверенно вползала в полосу социально-политических кризисов. За изнурительной мировой войной последовал ряд революций, столкнувших огромную, казалось бы, отлаженную империю на путь долгого и кровавого социального эксперимента.
До сих пор во владикавказской среде циркулируют мифы и легенды о семейной драме Махарбека Туганова. Разлад с родственниками, несчастная семейная жизнь, грянувшие социальные потрясения – все это не могло не сказаться на творчестве художника, на всей его жизни, вернее, ее внешнем проявлении, поскольку после этого времени личная жизнь художника навсегда скрывается от общественного взора. Мы уже отмечали, что внимательное прочтение фактов жизни Туганова в его изложении наводит на мысль о сознательном искажении им своей биографии.
Записанная со слов Туганова и воспроизведенная в упомянутой книге М.Хакима, искаженная биография перекочевала в новую книгу, изданную при участии сына художника – Энвера Туганова. Казалось бы, то, что нельзя было сказать отцу, мог дополнить сын, к тому времени человек уже преклонного возраста, и в эпоху более «теплого» режима. Но, видно, традиция внутренней эмиграции, воспринятая оставшейся после 1917 года сословно-интеллектуальной элитой бывшей Российской империи, заключалась в полном умалчивании и искажении фактов из прошлой жизни, способных как-то навредить жизни в настоящем.
По рассказам моего знакомого, хорошо знавшего Энвера Туганова, разговор с ним об истинных событиях жизни его отца не получался. Даже в дружеской обстановке (без свидетелей) сын продолжал говорить о преданности своего отца социалистическим идеалам. «Складывалось впечатление, – говорил мой знакомый, – что Энвер затвердил еще в детстве заложенные отцом правила поведения (выживания) во внешней среде». Подобные истории я слышал не раз и о дочери Малевича, и об учениках Татлина, Филонова и еще о многих других, скрывавших свою причастность к «идеологически чуждой» культуре.
Но не нужно думать, что российская интеллигенция опасалась только репрессий власти. Каждодневно она существовала в окружении своей среды, общества, с недоверием и опаской относившегося во все времена к личностям особым, выдающимся и от этого непонятным, чуждым. При этом, как мы знаем, во все времена творческие личности имели воспитательное влияние на своих современников (на потомков). Однако влияние это, по существу, всегда покоилось на том, что они громче и яснее высказывают проблемы, о которых догадываются все, но открытое решение которых пугает. Это и раздражает обычного человека, желающего общаться с мягкой, нетребовательной к нему, эстетичной культурой. Ведь наиболее сильное воздействие на современников оказывает именно такое искусство, которое умеет выражать в подходящей эстетичной форме самый поверхностный слой бессознательного (на этом и выстраивает свой коммерческий успех салонное искусство). Но голый поверхностный эстетизм не способен разрешить столь серьезной и трудной задачи, как духовное воспитание человека, потому что он всегда уже предполагает как данное то, что еще только надлежит создать, а именно – способность любить красоту. Эстетизм прямо-таки мешает углублению проблемы тем, что постоянно отворачивается от всего сложного, непонятного, требующего культурно-интеллектуальных усилий, стремясь к одному только наслаждению, хотя, возможно, и благородному. По этой же причине эстетизм лишен и всякой нравственно мотивирующей силы, потому что по своей сущности остается лишь утонченным гедонизмом.
Но чем глубже в бессознательное проникает созерцающее начало творческого духа художника, тем более чуждым он становится для толпы, и тем сильнее для него становится противление со стороны власти. И хотя масса, не понимая его, все равно бессознательно живет тем, что он высказывает; и не потому, что это высказывает именно он, а потому, что она живет из того же коллективного бессознательного, в которое и смотрит художник, но она никогда не простит ему его вдохновенного откровения.
При этом, лучшие представители нации конечно же понимают кое-что из того, о чем говорит художник, но так как высказанное, с одной стороны, соответствует тому, что происходит в массе, а с другой стороны, предвосхищает их собственные стремления и поиски, то в них возникает ненависть к творцу новых идей и вероятно не по злобе, а из простого инстинкта самосохранения. Когда же постижение коллективного бессознательного доходит у художника до такой глубины, что сознательное выражение не ухватывает больше его содержания, тогда обществу трудно бывает решиться на определение ценности творческого продукта, его общественно-культурной значимости. Оно начинает видеть в творце и его произведении проявление скрытой болезни, психического изъяна, и отчасти успокаивается, воспринимая художника как очередного городского сумасшедшего. В этом случае слава, если она вообще приходит к художнику, бывает посмертной, а иногда опаздывает даже на несколько столетий. Такими были Рембрандт и Моцарт, Ван Гог и Гоген, Малевич и Филонов.
Отмеченные общественные механизмы действовали не только в пространстве «развитого социализма», они действовали всегда и везде там, где общество не смогло или не захотело выстроить сложную и пластичную инфраструктуру, с одной стороны защищающую творца, с другой – объясняющую его творение. Туганову не повезло. В самый расцвет его творческих сил общественные возможности по восприятию нового были существенно ограничены не столько идеологическими препонами власти, сколько понизившимся культурным уровнем масс.
В советское время над Махарбеком Тугановым довлело не только родство с осетинской аристократией, не только учеба в Германии, но, главное, его интеллектуально-культурная обособленность в новой социальной среде, заставлявшая опасаться внимания к себе «народной» власти. Бесспорно, все это входило в противоречие с идеалами его молодости.
Нужно сказать, что у осетинской интеллигенции конца XIX – начала ХХ века все еще оставалась стойкая народническая реакция на окружающую ее социальную действительность. Эта реакция была воспитана российскими идеалами общественного служения и подвижничества. Искусство переносило эти идеалы в свои образы, отражавшие важнейшие проблемы общества. Гоголь, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Островский, Ге, Перов и многие другие становились своего рода судьями жизни общественной, воспитывая в сознании российского интеллигента образ искусства как пространства для обличения пороков социальной действительности. Этот взгляд на искусство сформировал и особый взгляд на природу таланта художника, который понимался не как счастливый, а, скорее, как трагический дар, жертвенное служение благу народному.
По началу и Махарбек Туганов включился в эту борьбу как гражданин, художник-публицист, обличая в своих статьях и рисунках политику царской администрации на Кавказе. Но весь этот пафос продолжался до 1917 года. После революции художник пишет статьи только о народном творчестве, истории и литературе.
Когда в сороковых годах Туганов говорит о своих революционных заслугах, о помощи малоземельным крестьянам, о дружеских связях с бедняками и революционерами, то трудно верится в искренность человека, поставленного «народной» властью на грань физического выживания, потерявшего родовое гнездо, кочевавшего в поисках безопасного места жизни.
В годы гражданской войны в сельском доме Туганова в Дур-Дуре погибли годами собираемые им коллекции предметов народного творчества, ценнейшие записи фольклора, исторические документы, фамильный архив, дореволюционные работы художника. По традиции все эти бедствия приписываются «белогвардейским варварам». Но дом А.Блока в Шахматово, между тем, разграбили и подожгли окрестные крестьяне, которым поэт материально помогал долгие годы, а красавец-дворец барона Штейнгеля во Владикавказе Красная Армия взорвала при отступлении, чтобы не доставался он никому.
Туганов был истинным стоиком и редко горевал о материальных потерях, страшнее всего для него были потери творческие, духовные. В его сельском доме, в котором окрестные крестьяне пожелали устроить сельсовет, «по-дружески» были уничтожены уникальные фрески на тему нартовских сказаний, созданные художником еще до революции и представлявшие бесценное богатство национального современного искусства. Через всю жизнь пронес Туганов запомнившиеся ему своей простодушной жестокостью слова крестьянина, участника уничтожения: «Ругали же мы тебя, Махарбек, когда начали белить дом, побелка не держалась на стенах. Вот и пришлось потрудиться, выбивая молотком все, что ты намалевал». А «намалевал» Туганов много – и с внутренней, и с наружной стороны. Ах, это милое народное простодушие, от которого кровь стынет в жилах. Сколько раз оно подкидывало хворост в костры, сжигавшие великие произведения великих творцов.
Нет ничего удивительного в том, что, будучи человеком высокой нравственности, Туганов стремился быть нужным своему народу, помогать ему в его нелегкой жизни, но, когда угнетенный народ пришел к власти, художнику нужно было спасать и защищать уже себя. Он так же, как и многие российские интеллигенты, поздно осознал невостребованность своего знания, жизненного опыта, таланта для новой власти, которой не было никакой нужды до ценностей национальной, народной культуры, тихо перекочевавших в кунсткамеры музеев, как экспонаты проклятого прошлого.
Революция, по словам Н.Бердяева, лишь внешне динамична, внутренне же она статична. «Революция не духовна по своей природе. Революция рождается от убыли, ущербности духовной жизни, а не от ее подъема, не от ее внутреннего развития... Революции никогда не ценят людей духовного движения и духовного творчества; они низвергают этих людей, часто ненавидят их и всегда считают их ненужными для своего дела... Идеология революции исходит от внешнего и материального, и им все определяет, а не от внутреннего и духовного».
Во все времена духовная личность раскрывается лишь тогда, когда по-своему оценивает социальные законы жизни, и исходя из собственного неповторимого опыта, способа жизни, собственного, отличного от общественного, мировоззрения, повелевающего личности и в поступках следовать только голосу своей совести. Поэтому так трудно разобраться в объективных причинах жизненных коллизий духовной личности.
С развитием революционных событий в стране в биографии Туганова появляются странные факты. В 1924-1926 годах художник работает в Наркомземе Азербайджанской ССР в городе Баку. Далее следует еще один странный поступок. Из Баку он почему-то уезжает в Туркмению, после недолгого пребывания в которой возвращается обратно.
Баку начала 20-х годов, как и Владикавказ, становится прибежищем как для российской творческой интеллигенции, так и для остатков осетинской аристократии (Тугановы, Дударовы). К примеру, здесь с 20-го по 24-й годы живет и работает Вячеслав Иванов, защитивший и издавший на берегах Каспия свою знаменитую философскую диссертацию о Дионисе. Юг России, по сравнению с ее севером, оставался относительно тихим и сытым. Государственная граница еще имела некоторую прозрачность, позволяя проникнуть через Турцию в Европу, а через Среднюю Азию в Харбин, а затем в Америку. Но к середине 20-х годов границы закрываются наглухо, причем по обе стороны.
Совершенный Тугановым вояж в те годы был возможен только при условии, когда люди уходили из голодных мест или спасали свою жизнь от политических преследований. По всей видимости, над головой Туганова нависли тучи, и настала пора спасаться. «Революционная» толпа одержима жаждой подавлять, принуждать к молчанию, подчинять себе индивидуальность, и это, как мы уже отметили, делает положение выделяющегося из нее человека опасным. В подобные времена в обществе эпидемически нарастает процесс разрушения всего незаурядного и ценного. Разрушение это, как лавина, бесцельно и бессмысленно, оттого и страшно, и только мудрый понимает – нельзя стоять на пути у лавины.
Так, блестяще образованный человек, талантливый художник, мыслитель постепенно сворачивает свое личностное присутствие в общественной жизни. До середины 20-х годов Махарбек Туганов еще публикует во Владикавказе статьи о народном творчестве, участвует в общественной жизни (плакаты «ТерКавРосТА» , сотрудничество с журналом «Творчество», выставочная деятельность), затем его активность резко затихает.
Новый Владикавказ
Для того, чтобы лучше понять условия, в которых проходила жизнь художника, нам нужно представить себе послереволюционную среду Владикавказа.
С 1919 года Владикавказ напоминает собой Ноев ковчег. Сюда от военных бедствий стекаются литераторы, артисты, научные работники и профессура из центральных городов России. Провинциальная культурная жизнь вроде бы оживает, но рядом взрастает агрессивная идеология пролетарской культуры – «пролеткульт», чем-то напоминая собой невежественную агрессию сегодняшних ценностей массовой культуры.
Это были годы, когда великовозрастные гимназисты, ворвавшиеся в революцию, обрели информационную и властную трибуну, обличая через нее всю мировую культуру. Это была месть невежественных, снедаемых тщеславием пигмеев великанам культуры всех времен и народов, но великанам, жившим рядом с ними, доставалось более других.
Революция смела большую часть образованной России, на столетия изменив интеллектуально-культурную ситуацию в стране. На смену социально-структурированному обществу постепенно пришла «общественность» – «совокупность людей, принимающих активное участие в жизни общества». Эта «совокупность» унифицировала язык под стать массовому сознанию. Устная речь послереволюционной России все более приближается к канону письменного языка, принятого в сфере официальной политики. Через некоторое время трудно уже было различить разговорную, протокольную или литературную речь (характерный признак сегодняшних дней). Лицо этой новой культуры хорошо передают некоторые статьи из владикавказских газет начала двадцатых годов: «В нашей критике мы исходим не из тех положений буржуазных подголосков, которые со своим личным, оторванным от пролетарских масс, настроением подходили к искусству. Мы эту личную эстетическую критику вышвыриваем дальше за борт и подходим к произведениям искусства с точки зрения боевых заданий пролетарской культуры, с точки зрения современности. Вот почему мы против лирической слякоти Чайковского... Мы без оглядки разрываем старое, буржуазное наследство во имя творчества новой, пролетарской культуры».
Порой и сегодня можно услышать несведущее мнение о том, что представителям российского художественного авангарда были близки идеи «пролеткульта», но это в корне неверно. Любой крупный художник понимает преемственность культурной традиции, зависимость художественных ценностей настоящего от прошлого. Искусство – это не производство товара потребления, а древнейшая духовная система, и, как любая духовная система, она во многом питается культурой прошлого.
В первые годы советской власти российские модернисты получили возможность ввести в визуальную культуру общества самые передовые находки изобразительного искусства ХХ века. Конечно, это была наивная, но чистая и во многом прогрессивная затея. Однако ее организаторы не учитывали внешние реалии: ведь вскоре вся культурная политика страны стала марионеткой в руках правящих идеологов, а любое большое общественное начинание сразу же обрастает армией невежественных, но очень активных сторонников. В 1922 году Наркомпрос ликвидирует Комиссию по созданию Музея живописной культуры, в которой с 1919 года работали В.Кандинский, В.Татлин, Р.Фальк, Н.Альтман, А.Родченко. А в 1924 году уже создается иная комиссия, которой предписано уничтожить около 500 работ русского авангарда. В 1925 году ЦК партии уже призывает писателей и художников создавать искусство «понятное и близкое миллионам трудящихся», и использовать для этого все технические достижения старого искусства, т.е. реализма (15, с. 298).
Единственным плюсом того времени для художников-новаторов оставалась возможность бесцензурности любых формальных творческих поисков в искусстве, что привело к большому числу художественных откровений. Это был единственный и очень короткий период при советской власти, когда Махарбек Туганов реализовал некоторые из своих творческих замыслов, объяснив нам в дошедших из тех лет работах ориентиры и ценности своего художественного мира. Но уже к концу двадцатых годов идеологических лидеров страны станет тяготить и творческая свобода отдельных художников, и необузданная свора пролеткультовцев; на арену культуры будет выведен и идеологически обоснован метод социалистического реализма. Впервые термин «социалистический реализм» появится 25 мая 1932 года на страницах «Литературной газеты», а свою окончательную формулировку получит в августе 1934 года на Первом всесоюзном съезде советских писателей в выступлении А.Жданова, с именем которого связаны все главные погромы советской культуры 30-х и 40-х годов.
В начале 20-х годов, во Владикавказе, витийствовали, ругая все ценное в культуре прошлого, в том числе и творчество А.С.Пушкина, пролеткультовцы. Находившийся в это время во Владикавказе Михаил Булгаков выступал на диспутах в защиту великого поэта, к примеру, от таких высказываний: «Пролетарскому, революционному сознанию чуждо творчество Пушкина, как мало остается от «великого» Пушкина после пристальной, вдумчивой критики рядового революционера-борца».
Сейчас ужасает даже не уровень образованности оппонентов высокой культуры, а способ их аргументации, та особая, складывавшаяся в первые годы советской власти, иезуитская система травли творческого человека. Пока это всего лишь диспут, но вывод из него уже напоминает обвинительный приговор в контрреволюции, предвосхищая характерный признак правового беспредела судебных троек тридцатых годов. Пока это всего лишь разница мнений, но вскоре за их высказыванием последуют лагеря и расстрелы.
Вчитайтесь в текст, обращенный пролеткультовскими обвинителями к защитникам творчества А.С. Пушкина, к честной российской интеллигенции, пытавшейся вместе со здравым смыслом отстоять и свое человеческое достоинство: «И в самом деле, на что сдалась этим господам революция. Ведь, если они отстаивают Пушкина именно как революционера – очевидно, они и себя считают революционерами. Если они революционеры, они не могут быть принципиальными противниками всякой вооруженной борьбы. Если они не против применения оружия в известных случаях, они должны прямо заявить, в каких именно случаях они освящают его применение: против ли Разина, или царя, против рабочих, или против деникинцев. Оружие не игрушка. Его применяют только тогда, когда нет другого выхода, и тут никакими фразами о гуманности и человечности не отделаешься».
Не зря М.Булгаков при первой же возможности сбежал из Владикавказа, прокляв его, ибо следующим шагом его дискуссионной активности был монолог в ЧК.
По окончании гражданской войны столичная интеллигенция возвращается в российские центры, вследствие чего Владикавказ интеллектуально пустеет. Его начинают обживать новые люди. На смену горожанам приходит крестьянский и пролетарский элемент. Вероятно, в этой пустоте фигура Махарбека Туганова слишком выделялась, раздражая своей неординарностью. Возможно, этим и объясняется его отъезд в Баку и Туркмению. На глазах менялась огромная страна, а вместе с ней изменялся и Владикавказ, напоминая собой платоновско-булгаковские истории. «Комиссия по выселению буржуазии на окраины помещается при Комунхозе (Горревкоме). Рабочие, желающие переселиться в центр, должны подавать заявления...». Это был уже другой город другой страны.
Предвоенные годы
Пришли новые жестокие времена, покончившие с интеллигентскими иллюзиями о народном благе. Нужно было продолжать жить. Туганов возвращается из своего «путешествия» по Азии, а к концу двадцатых годов перебирается в более тихую, патриархальную Южную Осетию, устраиваясь художником-оформителем при Юго-Осетинском государственном театре. Так, становясь незаметными, устраивались в новой советской жизни многие российские интеллигенты. Но многих и это не спасло.
Волны репрессий сменяли друг друга, и избежавший одну, неминуемо попадал под другую. Махарбек Туганов выжил, но заплатил за это невозможностью полноценной реализации своего творческого потенциала. Есть любопытные воспоминания конца двадцатых годов, времени, когда Туганов преподавал рисование в Северо-Осетинском педагогическом техникуме. Его ученик Андрей Дзгоев вспоминает: «Я не мог себе объяснить, почему такой знаменитый художник ходит в простой холстяной рубашке и грубых кирзовых сапогах. Квартира Махарбека Сафаровича... состояла из одной небольшой комнаты... со слабым дневным освещением, она же служила и мастерской художника...».
Воспоминания другого человека (В.Плиевой), описывающие события другого времени, отмечают все тот же облик и привычный стиль жизни Махарбека Туганова: «Элегантно одетый Хохов (ученик Туганова, преуспевающий художник-соцреалист. – В.Ц.) и художник-оформитель М.С.Туганов, в больших кирзовых сапогах, осетинской блузе, подпоясанной тонким ремешком. Рядом с ним суетливый, остроумно-насмешливый, со злостью на кого неизвестно, Хохов явно проигрывал». Любопытно, что В.Плиева обозначает Туганова не живописцем или театральным художником, а художником-оформителем. «Жили отец с сыном на редкость скромно, в одной комнате без всяких удобств; скудная обстановка: две тахты, покрытые бурками, стол, три-четыре стула, табуретка с керосинкой в уголке, а по углам рулоны свернутых холстов, заваленные книгами подоконники, развешанные по стенам картины, этюды, зарисовки».
Скромная жизнь тихого интеллигента, полная тревог и лишений, не могла обмануть новую власть. Слишком известен был художник до революции, так что некуда было скрыться такому человеку во Владикавказе. Вот почему смена административной опеки (при административном переделе Южная Осетия осталась за Грузией), становится для Туганова хоть какой-то надеждой на стабильную жизнь, что и послужило основной причиной его переезда в Цхинвал.
Мистифицируя окружающих своей незаметностью, народностью, Туганов спасал этим не только себя и своего сына, но и саму возможность внутренней творческой свободы. Именно в упомянутой А.Дзгоевым маленькой, темной комнатке двадцатых годов он создаст то небольшое наследие, творческим богатством которого осетинское изобразительное искусство гордится по сей день. Но не следует думать, что в те времена можно было остаться независимым, замкнувшись в своей комнатушке. Во-первых, нужно было зарабатывать на хлеб насущный, а во-вторых, любое затворничество всегда выглядело еще более подозрительным. Художнику приходилось выполнять заказы нового общества, с радостью воспринявшего победившую в стране социалистическую эстетику.
Юрий Лотман как-то заметил, что «в области науки и культуры победа – самое опасное. Потому что она всегда создает возможность и искушение подавить чужую точку зрения» (16, с. 155). А чужая точка зрения в искусстве – это неповторимая художественная индивидуальность, покидающая нас вместе с жизнью художника. Бесценны воспоминания А.Дзгоева об эстетических приоритетах художника и окружавшей его в те годы действительности: «Махарбеком Сафаровичем было создано немало полотен с отображением съездов, конференций и собраний областного значения. Все они были выполнены в разных местах, вне дома, т.к. габариты квартиры не позволяли. В этих картинах масса людей выписана была художником с портретным сходством. Особо мне запомнилась большая картина собрания, происходившего в зале педтехникума по какому-то торжественному случаю. В президиуме, на сцене и в зале, среди участников собрания я хорошо различал лица своих друзей» (1, с. 224). Эту восточную пытку фотографичностью экспрессивный Туганов терпел в заказных картинах: «Первый съезд колхозников Северной Осетии» (1927), «Разгром белыми селения Христиановского» (1929), «Открытие Гизельдон-ГРЭС» (1927) и др. Независимый свидетель тех лет рассказывал, что в период сталинских гонений многие известные в Осетии личности, изображенные на картинах Туганова, подверглись репрессиям, вследствие чего их лица закрасили, так что со временем на картине никого уже нельзя было узнать.
Но не один Туганов попал под волну живописной фиксации новой социалистической действительности. Мы можем вспомнить попытки мыслить соцреалистически у П.Филонова, М.Сарьяна, П.Кузнецова и др., поэтическое отображение побед социализма у О.Мандельштама и Б.Пастернака. Конечно же, надолго истинный художник не мог закрыть свои глаза на реальную жизнь и на свое искусство. Всегда существует выбор для жизни и для смерти – умереть как художнику (личности) или как человеку (телу).
Пытаясь сохранить и то и другое, Туганов отдает должное и новаторству, и соцреализму, что подчас приводило лишь к раздражению неискушенного зрителя. Вот как об этом пишет А.Дзгоев: «Надо сказать, что некоторые из работ Махарбека Сафаровича были выполнены им в господствовавшей тогда манере письма небрежными мазками. Тщательная обработка деталей, показ, как говорят художники, «фактуры» тогда считалось крамолой и пренебрежительно назывались «вылизыванием». Полотна, созданные до революции объявлялись не пролетарскими и потому, якобы, бесполезными для рабочего класса. Поборники этого направления только и говорили о мазках, а что получается от этих мазков, их мало заботило. Соревнуясь между собой в оригинальничании, некоторые ортодоксы из них умудрялись обыкновенный красный помидор изобразить фиолетовым, а зеленый огурец – кумачево-красным. Такие произведения мне были не по нутру, я их не понимал и поэтому с большим огорчением наблюдал за работой Махарбека Сафаровича, когда он брался отдавать дань этому, как мне казалось, ужасному поветрию». Но нетрудно заметить, что сквозь текст этих простодушных и все же бесценных для осетинской культуры воспоминаний проступает высказывание А. Явленского о цвете, напоминая нам об истоках и находках художественной культуры Махарбека Туганова.
Продолжение следует