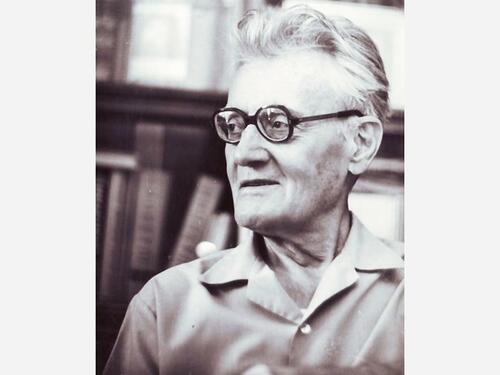Загадки сарматской фрески
Прояснив пространство древних мистических обрядов, вернёмся к сарматскому воину, в погребальной камере которого была обнаружена уникальная фреска. Мы имеем в виду известную фресковую роспись катакомбы Анфестерия, открытую в 1877 г. близ Керчи. К сожалению, от этой уникальной росписи осталась только копия, снятая художником Ф. И. Гроссом до ее полного и варварского уничтожения владельцем усадьбы, на территории которой она была обнаружена.
Роспись катакомбы Анфестерия датируется I—II вв. н. э., но её сюжетный мотив настолько близок к осетинскому аналогу в обрядовом тексте посвящения коня покойнику, что, возможно, мы имеем здесь одну из самых полных изобразительных картин потустороннего мира, когда-либо фиксированных в культуре северных иранцев. Ещё в конце XIX века В. В. Стасов отмечал, исследуя сарматские фрески, что в них «греческие элементы всё более бледнеют, в иных случаях совершенно исчезают и уступают место иным элементам, иранским...».
Для объективного восприятия структурного анализа композиции росписи важно понимать мир, из которого она к нам пришла. Породившая её визуальная культура ещё не знала законов линейной перспективы реализма с его изобразительной иллюзией пространства, объёма, светотени. Мир для древнего человека был божественно цельным, проявленным во всех его предметных наполнениях. Древний художник, как и зритель его произведений, считал аморальным нарушение физической плоскости стены изобразительным приёмом перспективного пространства (т. е. движение взгляда, объекта в изобразительной композиции вперёд или назад), поэтому все перемещения в росписи проходят справа налево и сверху вниз. При этом, как мы увидим в дальнейшем, ни один изобразительный или архитектурный узел как композиции, так и реальной стены, на которой она разместилась, не выглядит случайным, более того, всё окружающее роспись пространство органично вписывается художником в идеологию изображаемого сюжета.
Начнём с того, что роспись расположилась на фризе самой высокой стены погребального помещения, в которой имеются два проёма. На правом от нас краю — полукруглый высокий вход, в центре стены — полукруглая ниша, над которой начертано имя погребённого.
Прямого назначения ниши мы не знаем, но можно предположить, что она сама (или вложенный в неё предмет) каким-то образом олицетворяла личность погребённого. Символика ниши в контексте композиции росписи имеет глубокий смысл. Ниша не только делит композицию росписи пополам, но и является смысловым центром между двумя входами в разные пространства: между реальным входом справа, из мира живых, в пространство погребальной камеры (дверь), и входом слева, в пространство шатра, изображённого в росписи как символ закрытого пространства Царства мёртвых, обетованной земли предков. Через правый вход (дверь) тело покойного попадает в реальное погребальное помещение, через левый (шатёр) его душа проникает в мифологическое загробное царство. При этом семантический центр композиции (ниша) — статичен, не являясь ни входом, ни выходом. Центр-ниша связан с именем погребённого, возможно, храня его овеществлённую ипостась (реликвию).
Выявленная нами символика трёх пространственных объектов в композиционной схеме росписи (реальный вход справа, центральная ниша и нарисованный шатер) может олицетворять собой только вертикальную модель древнего мироздания, троичность его священных пространств. Эти же три пространства фиксирует и осетинский обрядовый текст «бæхфæлдисын». Сравнительный анализ композиции росписи и этого обрядового текста подтвердит правильность наших предположений.
Зная из осетинского обрядового текста, что родственники умершего ищут для него коня на вершине Священной горы, реконструируемой нами как образ Мировой горы, присмотримся к тому, как этот текст претворяется в сармато-аланской росписи. Движение образов в ней происходит справа налево от смотрящего. Ее композиция начинается полуфигурой неоседланного, необъезженного коня, который изображен над верхним полукругом входного проема в погребальное помещение.
Этот проем фактически и семантически соединяет пол («Низ») погребального помещения (представляемого древним сознанием как целое – космос) и его потолок («Верх»), в то же время он реально соединяет мир живых (поверхность земли) с пространством мертвых (склеп). Все это выявляет в полукруглом дверном проеме сакральную знаковую суть, которая и семантически, и визуально воспроизводит образ Мировой горы, что и использовал древний художник в изобразительной версии обрядового сюжета.
Далее в композиции росписи следует изображение всадника с длинным копьем, ведущего взнузданную, но не оседланную лошадь. Направление копья усиливает движение всадника в левую сторону, при этом копье изобразительно соединяет верхнюю часть двери и ниши, проявляя тем самым в себе символ дороги, по которой и едет всадник. Расположение фигур в композиции не случайно. Неоседланная лошадь выходит на первый план, отодвигая всадника на второй, что говорит о его второстепенном, подчиненном положении. Это композиционное первенство коня легко объясняется знакомым нам осетинским обрядовым текстом. Ведь всадник всего лишь относится к «домашним покойного» или является его оруженосцем, слугой, приводящим хозяину (вождю) Священного мистического коня. Именно конь в первой части росписи является ее основным персонажем (смыслом).
Конь неоседлан, но как мы помним, его оседлает, по осетинскому обряду, сама душа. «Оседлав чудного коня золотым седлом, ты быстро сядь на него и пускайся в путь». То есть в сюжетном контексте нашей росписи приведенного слугой Священного коня должна оседлать душа Анфестерия, но где? Судя по всему, в пространстве полукруглой ниши, над которой и написано имя покойного, т.е. в космогоническом смысле в пространстве средней зоны мироздания. Именно с вершины Мировой горы (верх дверного проема) конь попадает в средний мир – мир людей (проем ниши), где и встречается с душой, которую он должен доставить в Царство мертвых к предкам.
Следуя за текстом осетинского обряда, мы узнаем, что душа Воина, оседлав коня, будет трижды поднята на небо и опущена на землю, что переродит ее из земного существа в небесное, светлое, т.е. освободит от земного (человеческого) притяжения. После долгого пути она подъедет к мосту в виде бревна (жерди) через реку Царства мертвых, а перед мостом встретится с Аминон, Великой Богиней-матерью, и поведает ей всю правду о своей жизни. И если при этом не солжет и окажется достойной, то Аминон даст ей провожатого, чтобы провести ее в землю предков, нартов («…туда они и приехали по средней дороге. Подъезжают и видят, что нарты все сидят в кружке и только увидели покойного, встали перед ним, а Барастыр (хозяин Рая) вышел вперед и пригласил его занять в кружке первое место...»).
Так повествует осетинский обрядовый текст. А что же происходит в исследуемой нами росписи? После полукруглой ниши (центр композиции и символ средней зоны мира) древний художник приступает к изображению преисподней. И хотя всадник, душа которого оседлала чудесного коня, и переродился в небесное, светлое существо, он все же представлен художником во всем блеске своего земного величия. Всадник одет в тяжелый чешуйчатый доспех, на боку у него висит меч, признак высокого воинского положения, в правой руке он держит жезл, выявляющий его социальный статус, возможно, статус племенного вождя, полководца сармато-греческой военной дружины.
Для понимания пространственного представления древнего человека интересно посмотреть на местоположение всадника в композиции фрески. Мы уже отмечали, что древний художник строил композиционное пространство росписи плоскостно, т.е. только по вертикали и горизонтали. Аналогично тому, как он включает в символику композиционной идеи естественные архитектурные детали погребального помещения (дверь, ниша), он использует и нижнюю линию изобразительной композиции фрески – как своеобразную раму, отделяющую ее от остальной стены. Расположив на этой нижней линии персонажей и атрибутику Нижнего мира (не забудем, что мы композиционно уже перешли в зону преисподней), художник не только формирует из них первый (главный) изобразительный план, но и подчеркивает этим их пространственную устойчивость, указывая зрителю на истинную, божественную сущность развернутого перед ним священного изобразительного сюжета, на его центр – величественно восседающую хозяйку, Богиню-мать, Аминон. Именно образ Аминон становится в предложенной ситуации основополагающим.
Продолжение следует.
Валерий Цагараев,
из книги «Искусство и время»